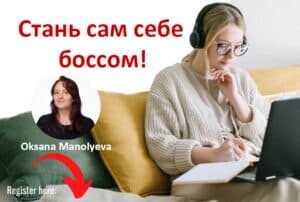Лада МИЛЛЕР
Глава первая.
КОМНАТА НА НОЧЬ
Двадцать минут от аэропорта, сорок от Мадрида, и мы в настоящей Испании. На
въезде в город – крутой поворот, запыленная табличка Alcala de Henares сообщает
нам, что мы прибыли в город Сервантеса.
– Опять этот город. Мы же договаривались больше сюда не приезжать.
– Не так. Мы договаривались сюда не приезжать до свадьбы.
– Ох, Игнасио, прекрати. Эти твои вечные шутки.
Ты не отвечаешь, ставишь машину, выключаешь зажигание. Пока я достаю
сигареты и раздумываю, не закурить ли мне, ты находишь хозяина гостиницы, вернее
– постоялого двора, обращаешься по-испански.
– Сколько стоит комната на ночь? А на две?
Комната на ночь. Невеста на ночь. Или на две. Раньше бы я обиделась, насочиняла
бы себе с три короба. Но не сейчас. С возрастом становится жалко времени на
инфинитивы. «Уходить», «улетать», «обижаться» – это не для нас. Мы живем в
настоящем продленном. Мы умеем смаковать прошедшее время, с удовольствием
употребляем прилагательные, балуемся деепричастиями, презираем сгорбленное
«бы», потому что давно поняли, что сослагательное наклонение – часть речи,
несовместимая с жизнью. Нас бодрят императивы, наконец. Что касается времени
будущего – то вот уже месяц с тех пор, как ты умер, мы его избегаем.
– Ты слышишь меня?
Ты подходишь, берешь меня за плечи, легонько встряхиваешь, заглядываешь в
лицо, улыбаешься. Надо же. Я так хорошо помню, как мы встретились в первый раз,
пожалуй, я помню тот день по минутам.
– Слышу, – киваю я. – А что случилось?
– У него есть для нас комната. Остаемся?
– Остаемся. Куда же нам деваться. А тут тихо?
– Говорит – тихо. Да и нет сейчас особо туристов, ты же знаешь.
Мы достаем из багажника наши рюкзаки. Лестница скрипит, даже постанывает.
– Совсем как женщина, – говорю я одними губами; ты меня услышал,
соглашаешься, киваешь.
Хозяин приветливо взмахивает руками, а смотрит равнодушно, таких, как мы, он
видел много раз.
– И очень зря он так думает, – возмущаюсь я про себя. – Мы с Игнасио особенные,
знал бы он…
– Если бы он знал, какие мы с тобой на самом деле, – усмехаешься ты, – замучил
бы расспросами.
– Если бы он знал, какие мы на самом деле… – начинаю говорить, но хозяин
перебивает, спрашивает на испанском:
– Что-нибудь еще для сеньора и синьориты?
Зря он спросил. Сейчас начнется. Ты умеешь просить так, будто не просишь, а
оказываешь честь.
– Бутылку красного в номер. Два бокала. Утренние газеты.
– И тапас побольше, – пищу я.
– И тапас побольше, – усмехаешься ты, глядя на меня.
Хозяин остается на нижних ступеньках. Рот его открыт. Ты заходишь за мной,
прикрываешь дверь, берешь меня за плечи, поворачиваешь к себе.
– И тапас побольше, – передразниваешь ты. – Ну зачем нам тапас? Разве есть на
свете тапас, которые могут утолить наш голод?
– Между прочим, я только что с самолета, – пытаюсь пожаловаться я, – а в
самолете кормят невкусно, по-моему, я уже сутки не ела.
– Сутки, – ты смешно морщишь нос и качаешь головой. – Я тебя два года не ел.
А ты мне про какие-то сутки рассказываешь.
Ты проводишь губами по моим волосам, в дверь стучат.
– Вот, сеньор, – хозяин запыхался, эта лестница и правда крутая, под мышкой у
него зажата газета, в руках он держит поднос, на подносе бутылка темного цвета и два
бокала. – Тапас будут чуть позже, – голос у хозяина хриплый, приятный, – Дайте
мне пятнадцать минут.
Ты машешь рукой, мол, бери свои пятнадцать минут, так и быть, бутылка вскакивает
на круглый стол у окна, бокалы раздвигают ноги. Окно наполовину прикрыто жалюзи,
от этого свет в комнате лежит неровными пятнами. Я вижу широкую низкую кровать,
застеленную пикейным покрывалом, поверх покрывала две пышные подушки в
наволочках с петухами. В одном углу пузатый древний шифоньер, в другом тумбочка
с облупленным тазом, со стены над ним свисает жестяной рукомойник, интересно, а
душ здесь есть?
Хозяин исчезает. Я подхожу к окну, поднимаю жалюзи, открываю ставни с двух
сторон. Надо же. У нас есть балкон. А ставни доходят до самого пола. За балконом
поворот узкой улицы, он плавно впадает в песчаную дорогу. В доме напротив сушатся
на веревке рабочие брезентовые брюки. Кусты жимолости полны птиц. Если поставить
ногу на узкий балкон и высунуться подальше, я увижу внизу толстую жену хозяина.
Она стоит на крыльце, сложила руки на животе, крутит пальцы, ждет постояльцев, но
они не придут. Туристов пока мало. Я да Игнасио. Впрочем, мы не туристы.
– Разве мы похожи на туристов? – оборачиваюсь я к тебе.
– Ты – да.
– Отчего?
– Ты все время молчишь. А настоящие испанцы никогда не умолкают.
– Как ты?
– Я – баск. Я молчалив.
– Помню. Так ты сказал тогда.
– Правда помнишь?
– Конечно. Ты подошел к нам и важно произнес: «Я – баск, я молчалив и силен, но
с вами я буду разговорчив и нежен». Так началась наша экскурсия.
– Я был глупый и молодой, а этой фразе меня научила одна…
– Подружка?
Игнасио смотрит на меня не мигая.
– Подружка, да. Ты же знаешь, раньше у меня были подружки.
– А теперь?
– А теперь я солидный мужчина в полном расцвете сил, с солидным стажем
семейной жизни.
– Что ты называешь семейной жизнью? Наш гостевой брак? Или свой законный?
– Не называй наш брак гостевым.
Игнасио надувает губы, отворачивается, идет к столу. Бутылка поддается сразу.
Тебе всегда и все поддаются, особенно я, так подойди ко мне, бога ради.
Глава вторая.
СЕРВАНТЕС
Ты возвращаешься с бокалами.
– Давай выпьем. Я ждал этого два года.
– А я всю жизнь, – молча говорю я.
Вино отчего-то обжигает.
– Молодое, – презрительно бросаешь ты. – Ни опыта, ни злости.
– Почему же обжигает?
– Именно поэтому. Чтобы хоть чем-то поразить. Как ты тогда, в самом начале.
Помнишь? Все время меня поддевала.
– Я тебя обожгла?
– Да.
– И поразила? – ты смотришь на меня. – У тебя глаза винного цвета, – говорю я
первое, что приходит на ум.
– Красные? – усмехаешься ты, не отвлекаясь на мои хитрости. Расстояние между
нами – два бокала, тут уж ни одна хитрость не сработает.
– Не красные. Жгучие.
– Это хорошо, – киваешь ты, забираешь у меня бокал, ставишь вместе со своим
на круглый стол. Ты слишком деловит, и меня это сбивает с толку, как уже бывало
раньше. Десять лет жизни, а все никак не привыкну.
– Ты скучал? – задаю глупый вопрос. На самом деле мне хочется спросить,
сколько у тебя было сеньорит за эти два года.
– Я всегда по тебе скучаю. Хотя с тобой и не до скуки.
Между нами больше нет двух бокалов, между нашими телами не наберется даже
на два глотка воздуха. Снова стук в дверь. Ты разжимаешь руки, я отворачиваюсь.
Женщина выглянула в окно напротив, делает вид, что щупает развешенную на веревке
одежду – не высохла ли? На самом деле ей интересно поглазеть, чем будут заниматься
эти сумасшедшие туристы, пока не догадаются закрыть жалюзи.
– Тапас! – провозглашает хозяин, заплывая в комнату с двумя подносами.
Мне уже не хочется есть, мне хочется, чтобы и он, и его подносы, и женщина в
окне напротив исчезли, пропали совсем, оставили нас наедине. Как ты тогда сказал, в
первую нашу встречу?
– С этим городом нужно остаться наедине. Тогда вы поймете язык Сервантеса.
Нас было три подружки, Люська большая, Люська маленькая и я, мы отправились
в наше первое путешествие в Европу, выбрали Испанию, потому что тепло и вкусно,
к тому же Люська большая как раз готовилась писать диссертацию по Сервантесу, а
кончилось тем, что мы с тобой вот уже десять лет болтаемся на ниточке под названием
«гостевой брак», а что произошло с диссертацией, я так до сих пор и не знаю, потому что
Люська после той поездки на меня обиделась, еще бы, ведь ты ей ужасно понравился,
даже больше, чем Сервантес, а я взяла и перешла дорогу.
– Игнасио. Вы наш экскурсовод? – Люська большая поглядела томно и захлопала
ресницами.
– Вообще-то я писатель, – скромно заметил ты. – Историк по совместительству.
А экскурсии вожу для собственного удовольствия и только для прекрасных сеньор.
Ты поцеловал каждой из нас руку, Люська и поплыла. А я вовсе не поплыла, я
таких, как ты, любила раззадорить, поматросить и бросить, вот и накинулась, вот и
насмешничала, вот и пыталась уличить в неточных датах, цитатах, даже сказала в
конце, что для профессионального экскурсовода ты «перебарщиваешь» с эмоциями.
Я вела себя, как глупый и грубый ребенок. А ты только улыбался, кивал, вежливо
соглашался или нет, словом, был настоящим идальго. От нашей с тобой игры Люське
маленькой было весело, а Люське большой обидно, впрочем, к концу экскурсии ты
уже не замечал ни ту, ни другую.
– Отец Сервантеса происходил из древнего рода и был искусным хирургом,
уважаемым человеком в городе.
– Он был еврей, а это значит, никакого уважения, что же касается хирургии –
диплом его был липовый, по той же причине. Впрочем, я думаю, руки у него были что
надо, горожане без него обойтись не могли, а это уже признание, – голос мой звенел
и негодовал, это я в очередной раз выскочила с поправками.
– Верно, ходят такие слухи, – ты посмотрел на меня и улыбнулся, – но они еще
пока не доказаны…
– А и не надо ничего доказывать, – вспыхнула я, готовая дать отпор любому
мнению, кроме своего, – отец Сервантеса был крещеный еврей, как и мать, а значит,
и Сервантес еврейского роду-племени; чтобы это понять, достаточно почитать его
книги и поглядеть на его портрет.
– Вы, наверное, тоже еврейка, – сказал ты мне тогда.
Я на секунду потеряла дар речи. Среди моих друзей было не принято говорить
про национальности, просто не принято, мы уже давно все знали друг про друга, и
национальности тут были ни при чем.
– А что, – ядовито заметила я, – в вашей стране с евреев за экскурсии больше
денег берут? Тогда да – я еврейка.
– Нет, – покачал ты головой, – просто вы красивая, как Ноэми у Фейхтвангера.
Вот я и подумал.
Тут мне стало совсем стыдно, и больше до конца экскурсии я не произнесла ни слова.
Потом, ближе к вечеру, ты угостил нас пивом и тапас, мы разомлели, распрощались,
взяли твои визитные карточки.
Зачем я тебе позвонила на следующий день – понятия не имею.
– Скажи, зачем я позвонила тебе тогда?
– Когда? На следующий день?
– Да.
– Потому что я очень этого хотел. Даже молился.
– Вот как. И какому богу? Своему или моему?
– Бог один, дурочка, – ты хватаешь меня, чтобы уже больше не отпустить. – Бог
один, и сейчас он с нами. В этой комнате.
Мысли одна за другой пропадают из моей головы. Последней улетает вот эта:
– В следующий раз надо не забыть закрыть жалюзи.
Глава третья.
ЗЕЛЕНАЯ ДВЕРЬ
Неделю назад я вернулась из Испании, а на следующий день уже написала первый
рассказ из цикла «Тапас». Прочитала его дочери, та хмыкнула.
– Что-то не так? – спросила я.
– Опять хорошо кончается.
– Это плохо?
– Не плохо. Но и не хорошо. Рассказ должен кончаться, как французский фильм.
– То есть?
– Чтобы выхода не было. Но дверь была.
– Как это? – притворилась, что не понимаю.
– Как в жизни.
– А как в жизни?
– Человек надеется, что будет лучше. Надежда – это и есть дверь.
– А что за дверью?
– Еще одна. И еще. И все они зеленые.
– Почему зеленые?
– Не знаю. Так я хочу. А ты?
– Наверное. Да.
Дочь ушла по своим делам, а я села писать новый рассказ. Зачем?
Чтобы надежда была всегда рядом, под рукой.
Как чугунная ручка на облезлой двери с вывеской «У Санчо».
В этом городе все крутится вокруг Сервантеса, и это правильно. Мы толкаем
зеленую дверь и попадаем во внутренний дворик. Столы круглые, их всего пять, да и
сам дворик крошечный.
– Помнишь?
– Ты о чем?
– Помнишь, как в мой первый приезд ты учил меня испанским словам?
– Да. Но ты с трудом запоминала.
– Ну и что. Зато я запомнила самые важные. Например, «тапас»
Мы усаживаемся за свободный столик, вокруг одни местные. Это видно по
спокойным лицам, речь их нетороплива, с крыш доносится пощелкивание, аисты тоже
разговаривают. Наверняка их язык куда как проще, чем испанский.
– А еще ты мне рассказывал, что каждой закуске соответствует особое настроение.
Или событие.
– Конечно. Помнишь, что мы тогда ели?
– Помню. Первый мой тапас назывался матремониус. Это означает «брачный
союз».
– Символично, не находишь?
Ты склоняешься ко мне, но в этот миг подходит официант, фартук на его круглом
животе грязно-белого цвета.
– Что желает сеньора? – почтительно спрашивает он, глаза его насмешливы.
Не знаю, что его так забавляет. Может быть, то, как на меня смотрит Игнасио. Ты
смотришь на меня жадно, будто голоден, говоришь на русском:
– Сеньора желает остановить время, – потом поворачиваешься к официанту и
продолжаешь уже на испанском: – Белого вина для сеньоры. Самого сухого на свете.
Мне – пива. И проследите, чтобы среди тапас нам обязательно попались матремониус.
Через пару минут я уже пробую вино, твои губы в пене от пива, а на столе перед
нами поднос с маленькими рыбками. Все они по парам. Одна лежит на другой. Соленый
анчоус на маринованном бакероне. Ни в коем случае не наоборот. Если их уложить
наоборот – наступит конец кулинарного света, так ты мне однажды объяснил.
– Надо же, как вы, испанцы, чтите традиции, – не удержалась я тогда. – Но не
больше, чем свою свободу, правда?
Я и сейчас готова повторить эту фразу.
– Свобода – это миф, – отвечаешь ты, подобрев от пива. – Открытый космос.
Куда как слаще быть несвободным.
– Не хочу ничего сладкого. Хочу еще вина.
Второй бокал я растяну надолго. Мы будем сидеть, пока солнце не поднимется
высоко, а потом пойдем гулять по узким улицам. Ты будешь обнимать меня за плечи,
а иногда наклоняться и целовать. Наши тени станут совсем короткие, вернее – моя,
у тебя с недавнего времени тени не осталось, но сейчас нет времени для отчаяния,
отчаяние придет потом. Моя тень станет совсем короткая, с крыш будет стекать
солнце, оставляя на стенах домов масляные разводы, будто это не солнце, а вино, и весь
город – стеклянный бокал. Мой бокал наполовину пуст. Вернее, наполовину полон.
Маленькая бакероне обнимает соленый анчоус. В воздухе проносятся несказанные
слова.
– И все-таки, несмотря ни на что, хорошо, что мы однажды встретились, правда?
– пробую я тебя поддразнить, но ты не поддаешься, смотришь серьезно, отвечаешь:
– По-другому и быть не могло. Так долго ждали.
– Ничего мы не ждали. У тебя была своя жизнь. И есть. И будет.
– Я не про эту жизнь. Про прошлую.
– Ты думаешь, что мы встречались здесь раньше?
– Уверен. Иначе откуда между нами такое… – ты щелкаешь пальцами, ищешь
слово. – Такое притяжение, вот.
– Ну тогда я тебе не завидую.
– Почему же?
– Инквизиторам несладко приходилось.
– Это точно, – с готовностью соглашаешься ты. – Но я был хорошим
инквизитором. Я же баск, ты помнишь?
– А что, среди басков даже инквизиторы только хорошие?
– Конечно.
– А разве бывают хорошие инквизиторы?
– Был один. И он был баск. Его звали Алонсо де Саласар – адвокат ведьм.
– Откуда ты знаешь?
– Я историк.
– Ну да, ну да. С тобой вечно приключаются истории. Потом ты из них составляешь
книги. Когда ты напишешь книгу про нас с тобой?
– Никогда. Писатель никогда не пишет правду.
– Правда – это лекарство, которое необходимо принимать ежедневно. А мы с
тобой встречаемся два раза в год. Два раза по десять-двенадцать дней, да умножить на
десять лет, это будет…
Ты подзываешь официанта, просишь еще пива, чтобы не отвечать.
– Это будет чертовски много правды, – говоришь, наконец.
– Не вспоминай черта, верующему баску нельзя вспоминать того, кто только и
ждет, чтобы про него вспомнили.
– Откуда ты знаешь?
– По дороге на костер в голову приходят разные мысли.
– Я бы тебя не сжег. Разве что в своих объятьях.
Твои глаза опасно темнеют, а в этой забегаловке не сдают комнаты на пару часов,
и я спешу переменить тему.
– А помнишь, ты мне рассказывал про ту площадь в Мадриде, Плаца Мажор? Там
было красивое здание с расписными стенами и балкон. На балкон выходила эта ваша
Изабелла с придворными, они устраивали зрелища. Вызывали на площадь евреев,
предлагали есть свинину. Тому, кто отказывался, рубили голову. Головы подскакивали
на булыжниках, как…
– Прекрати. Тебе нельзя больше пить.
– Меньше тоже, – огрызаюсь я. Ты молчишь. Покусываешь нижнюю губу. Я
снова меняю тему. – Где мы сегодня ночуем?
– На фабрике.
– Это далеко?
– Здесь все близко. Погуляем, побродим по городу, сходим в дом Сервантеса и
поедем. Не доезжая Бургоса, в полях, наш ночлег.
– Почему фабрика?
– Старую фабрику переделали, сделали гостиницу. Там мило.
– Ты бывал там?
– Да. Давно.
– С женщиной?
– Может быть.
– Отчего я не могу тебя ревновать?
– Оттого, что ты моя маленькая бакероне.
Ты смотришь на меня так, что глаза твои и вовсе чернеют. Меня начинает знобить.
Аисты постукивают клювами все быстрее, все чаще. За соседними столиками тишина.
Кажется, в этом городе скоро начнут понимать русский.
Глава четвертая.
LA FABRICA
– Ну давай хотя бы здесь. Чем тебе не таверна.
Тишина всхлипнула и развалилась. Зеленая дверь скрипнула и впустила новых
посетителей. Они говорят на русском, громко, не оглядываясь на других.
– Я хочу самую настоящую таверну. Как двести лет назад. А лучше триста. И чтоб
без масок.
– Без масок. Так давай сядем, будет без масок.
– А почему столик в самом углу?
– Чтобы людей лучше видеть.
– Чтобы никто не подкрался?
Женщина наклоняет голову, смотрит на своего спутника хитрым синим глазом.
– Наверное. Даже точно, – отвечает тот.
Они усаживаются за дальний столик, ближе к стене дома, чем к улице. Между
столиков ходят голуби, толстый официант спешит к новеньким. Эти двое думают, что
никто не понимает их русский, а потому говорят свободно, не скрываясь.
– Ну вот, – женщина оглядывается по сторонам, смотрит на Игнасио с интересом,
на меня равнодушно, потом недовольно ворчит: – Только бы здесь было тихо. Люблю
тишину.
– Где ты нашла тишину? – усмехается мужчина. На нем легкие полотняные
брюки и рубашка, расстегнутая на груди.
– Между нами. Ведь между нами есть тишина?
Женщина смотрит не мигая, открывает сумку, достает сигарету, прикуривает, все
это не отводя глаз от своего спутника.
– У тебя глаза – как небо Испании, – говорит тот. – Синие и обманные.
– Это хорошо, – кивает она.
– Что хорошо?
– Что тебе нравятся мои глаза.
– Мне не только твои глаза нравятся.
– Я знаю. И это тоже хорошо.
Он протягивает руку, трогает ее за коленку. Она запрокидывает лицо, смеется.
Волосы у нее чудесные, русые, густые, рассыпаются по плечам. Еще двое туристов
проходят мимо ограды, замедляют шаги, смотрят на смеющуюся женщину, уходят
дальше.
– Что ты смеешься?
Я вижу, как мужчина сжимает ее коленку. Наверняка несильно, но крепко, чтобы
она запомнила этот день.
– Ты смешной. Ты думаешь, что трогать – это ставить печать. Тавро. А все не так.
– Не так. Может быть, – он тянется за бокалом, чтобы не начать курить вместе
с ней. – Может, ты знаешь, как все на самом деле? – спрашивает он, в его голосе
злость.
– На самом деле, мы сейчас пойдем в номер и займемся любовью.
– И?
– А потом я уйду. Ты помнишь, во сколько у меня самолет?
– Помню. Я провожу тебя.
– Нет. Ты закажешь в номер водки и напьешься.
– Зачем?
– Так провожают любимых женщин.
Официант приносит тапас. Женщина набрасывается на еду, будто не ела три дня.
– Знаешь, – голос у мужчины хриплый, – больше всего я люблю смотреть на
тебя голодную.
– Мне кажется, я была голодной все наши девять дней.
– Точно. Голодная испанка.
– Не скучай по мне. Я скоро приеду еще.
– Ты обещала это и в прошлый раз. А потом я не видел тебя два года.
– Пандемия. Я не могла летать. Никто не мог.
– Кто хотел – мог.
Он наклоняет голову. Снова злится.
– Ты похож на быка, – говорит она и опять смеется. – Помнишь, мы видели быка
в пещере Альтамира? Он был как живой, хотя и мертвый больше 18 тысяч лет.
Губы ее покраснели после еды и стали еще вкуснее, чем раньше.
– Я тоже живой.
– Тогда ешь. Отчего ты не ешь? – она смотрит на него так, будто изучает
неведомого зверя.
– Не хочу. И зачем ты так смотришь? Боишься, что пройдет еще два года и ты меня
забудешь?
– Вовсе нет. Я приеду быстрее, чем ты начнешь тосковать.
– Я никогда по тебе не тосковал. Мне некогда.
– Знаю. И ты действительно не тосковал. А сейчас будешь. Два года разлуки – это
больно.
– Переезжай ко мне. Переезжай ко мне насовсем.
– Перестань. Ты прекрасно знаешь, что из этого ничего хорошего не получится.
– Отчего?
– Мы уже пробовали. Помнишь? В конце концов чуть не подрались.
– Подумаешь. Я умею зализывать раны.
– Я помню все, что ты умеешь.
Она берет новую сигарету, но та ломается в ее пальцах.
– Нам пора.
– Да.
Они встают и уходят.
Ты поворачиваешься ко мне. Протягиваешь руку. Сжимаешь мою коленку.
– Мне больно, – говорю я.
– Это ничего. Это чтобы лучше запомнить, – отвечаешь ты. – Нам тоже пора.
– Мы похожи на них, что скажешь?
– Нет, – ты качаешь головой, – ты красивей в миллион раз.
– А ты упрямей.
Мы оставляем деньги на столе, прижимаем бумажку бокалом.
– Хорошо, что твой самолет только через девять дней, – скажешь ты позже, когда
мы доберемся до фабрики, где хозяйка накормит нас деревенским ужином, сначала
суп – густая наваристая похлебка с кусками мяса и овощами, потом испанский омлет
с картофелем, на десерт взбитые сливки.
– Хорошо, что твой самолет только через девять дней, – скажешь ты, когда в
комнате станет совсем темно, а свет зажигать мы не захотим.
– Можно я зажгу свет?
– Нет. Ведь для этого надо расцепить руки и ноги.
– Свет нельзя, а улетать можно?
– Но ведь это только через девять дней.
– Точно, – говорю я и перестаю плакать. – А девять дней – это целая жизнь,
правда?
И ты киваешь, а потом еще и еще, как будто знаешь то, о чем я только начинаю
догадываться. Свет пропадает совсем, даже уличные фонари гаснут. Остаемся только
мы. А нам свет без надобности. Вот моя коленка.
Глава пятая.
ЧЕРНАЯ ДЫРА
Ближе к утру небо за окном становится синим, теперь на нем можно различить
деревенскую колокольню. Последние клочки тумана исчезают, крик первого петуха
режет тишину на неровные части. На крыше соседнего дома большое гнездо, аисты
улетели, но скоро вернутся. Твои руки похожи на аистов. Такие же нежные и такие же
упрямые. От этой мысли я окончательно просыпаюсь.
Окно открыто, до меня долетает запах кофе. Хозяйка уже хлопочет, день будет
славным. Я иду в душ, потом вытираюсь жестким полотенцем, выбираю белые
полотняные брюки и белую блузку с глубоким вырезом – пусть я буду красивой. Ты
возвращаешься в номер, пока я купалась, ты сходил к хозяйке, заказал завтрак.
– Я заказал тебе тортилью. Я помню все, что ты любишь.
Я киваю. Забираю волосы в высокий хвост, забываю накраситься.
– Когда я с тобой, то забываю краситься.
– Зачем красить то, что светится?
Мы спускаемся по скрипучей лестнице. Солнце застряло в оконных витражах и в
буфетных створках, вспыхивает, моргает.
– Доброе утро, синьора, – хозяйка улыбается мне от души. Не потому, что ей
нравлюсь я, а потому, что со мной Игнасио и он хорош.
– Ты все еще нравишься женщинам, – вздыхаю я. – Ох уж эти женщины.
– Отчего же все еще, – хмуришься ты. – Между прочим, я совсем не стар.
– Дело не в возрасте, – машу я рукой, усаживаюсь за столик в углу, у самого
камина. – Дело в силе.
– Я сильный, – Игнасио горделиво выпрямляет спину, поводит плечами, – я два
раза в неделю хожу…
– Садись, – смеюсь я, – успокойся. Я вовсе не про ту силу.
– А про какую? – спрашиваешь ты, наливая мне кофе из блестящего кофейника.
Я перестаю разговаривать и даже дышать. Кофе – это такая штука, которую надо
употреблять в полном молчании, без лишних телодвижений, чтобы посторонние звуки
и запахи не нарушили его строй, чтобы разговор с этой черной дырой не прервался
раньше времени. Игнасио смотрит на меня с улыбкой, потом кивает хозяйке, мол,
кофе удался. Та розовеет, улыбается, уходит на кухню, переваливаясь, как утка.
Возвращается через пару минут с дымящейся чугунной сковородой.
– Тортилья! – провозглашает она шепотом, потому что я прикрыла глаза и
все еще балдею. Кофе бродит внутри меня, тычется черным горячим носом во все
мои выпуклости и впуклости. От этого мне с ним хорошо, почти как с Игнасио. От
воспоминаний о сегодняшней ночи я открываю глаза.
– Так про какую силу ты толковала? – голос твой насмешлив и в то же время
нежен, не знаю, как тебе это удается.
– Не скажу, – я хмурю лоб. – Ты и так меня во всем перехитрил.
– И не надо, – соглашаешься ты. – Конечно перехитрил. Ты, между прочим,
очень простая. Если, конечно, тебя долго и пристально изучать.
– Вот-вот, – ворчу я, принимаясь за пышный омлет с картошкой. – Именно так.
Простая. Даже слишком. А ты и рад.
Мое романтическое настроение улетучивается вместе с кофейными парами,
сейчас – только дразнить и подначивать, иначе разомлею и пропаду. Да что там –
просто не смогу сесть на самолет и вернуться домой. А этого мы никак не можем
допустить. Этакие фортели возможны только в глупых романах.
– Конечно рад, – киваешь ты, разламывая хлеб, и утро садится с нами за стол,
а хозяйка бегает вокруг и хлопочет, наверное, она решила, что если накормить нас
завтраком и обедом одновременно, то на ужин мы и сами останемся. На десерт нам
положен мед, королевский по вкусу.
– Может, никуда не поедем? – робко спрашиваю я, отдуваясь после третьей
чашки кофе, это уже не кофе, а привычка. – Никуда не поедем, завалимся спать, а
потом…
Хозяйка, будто поняв, о чем идет разговор, взмахивает руками, принимается
отчаянно кивать.
– Си, сеньора, – говорит она, – оставайтесь. А на обед я сварю вашему другу суп
из мяса и бобов, это будет не суп – а праздник.
– Отчего она не назвала тебя моим мужем? – вдруг обижаюсь я. – Отчего только
другом?
– Друг – это больше чем муж, больше чем любовник, – отвечаешь ты, подумав.
– Я уверен, что она хотела как лучше. Хотела больше, чем просто муж, понимаешь?
– Понимаю, пожалуй, да.
– Ну, тогда вставай и пошли. Спать нам некогда. Мы с тобой едем на день рождения.
– Что за день рождения?
– Нашему бургосскому собору в этом году восемьсот лет. Вот в Бургосе и отметим.
– Почему ты говоришь «нашему»?
– Я так чувствую.
– Ты ужасный собственник, знаешь?
– Главное – чтобы про это знала ты.
Мы выходим из-за стола, благодарим хозяйку, поднимаемся в номер. Вещи сами
запрыгивают в наши сумки, чтобы дать нам пятнадцать отчаянных минут. Минуты
уходят одна за другой. Я поправляю одежду. Беру рюкзак. К нему пришпилен
блестящий значок, это ракушка Святого Якова. Выхожу из гостиницы, оставляя
хозяйку за стойкой, а блестящий кофейник за буфетной створкой. Только черную
дыру по имени «разлука» пристроить некуда. Поэтому она тащится за мной, да так
тихо, так жалобно, что хоть бери ее на руки. Беру.
Глава шестая.
БУРГОС
На площади рядом с собором между булыжниками кое-где встречаются ракушки,
они позолочены солнцем.
– Дорога Святого Якова, – показываешь ты мне на них. Я киваю.
Святой Яков по прозвищу Матеморис – что означает «убивающий мавров». Отчего
все святые или убивали, или были убиты? Что общего между святостью и убийством?
Никогда этого не понимала, а теперь и спросить некого.
Людей почти нет, только двое паломников присели отдохнуть на ступенях дома,
что стоит неподалеку от собора. Это две женщины – одна старая, другая молодая,
они похожи, видно, мать и дочь. На них походная одежда – бесформенные брюки,
брезентовые куртки, на куртках прицеплены такие же ракушки, что выбиты на
площади между камней. Женщины присели, старая тяжело дышит, вытирает пот со
лба. Им еще идти и идти, до конечного пункта дороги Святого Якова – Сантьяго-де-
Компостела – немало дней пути. Молодая достает сигарету, закуривает.
– Разве паломникам можно курить? – удивляюсь я.
– Отчего нет?
– Ну, просветление и все такое.
– Просветление отдельно, сигареты отдельно, – пожимаешь ты плечами. – И
потом, не забудь. Не все идут по дороге по причинам религиозным. Многие ищут не
просветления, а утешения. Даже, пожалуй, не многие, а все. Значит, у них в жизни
случилось что-то, что можно и нужно «перекурить» по дороге.
Месяц назад у меня тоже кое-что случилось в жизни, и мне это было никак не
«перекурить». Я лежала на диване, отвернувшись к стене, день за днем и ночь за ночью,
пока дочка не принесла мне рюкзак. Пришлось набить его самым необходимым,
нацепить ракушку, купить билет на самолет и отправиться по дороге Святого Игнасио.
Ты ведь теперь святой, скажи, скажи?
– Что сказать, Лю?
Я мотаю головой, мол, что тут скажешь. Ты зовешь меня Лю, иногда Лючия, никогда
Юлия, ты так и не признал моего настоящего имени.
Мы доходим до центра площади, теперь можно поднять голову и посмотреть на
собор. Так ты меня учил в самом начале.
– Никогда не глазей. Всегда смотри.
– А чем одно отличается от другого? – смеялась я.
– Глазеют без мысли. Смотрят с выбранной точки. Никогда не смотри на соборы
издалека. Храни тайну. Дойди до центра площади, не поднимая глаз. Выбери точку.
Точку зрения, или точку отсчета, как хочешь. Остановись. Приготовься. Подними
голову и начинай смотреть. Тогда…
– Что тогда?
– Тогда ты поймешь мысли и чувства тех, кто приходил сюда до тебя, а еще замысел
Создателя.
Я поднимаю глаза. Мы встречались и раньше с этим собором. Но сегодня ему
восемьсот лет, да и я изменилась за два года разлуки. Мы смотрим друг на друга
немного по-новому, будто давно не виделись, а может, даже и не встречались.
– Что ты хочешь сегодня увидеть? – спрашивает Игнасио.
– Золотую лестницу. Марию Магдалину. И еще тот барельеф, на котором одна
женщина с завязанными глазами, а другая с открытыми, и обе прекрасны.
– Иудаизм и христианство, – киваешь ты. – Хорошо. А могилу Сида и Химены?
– Нет. Я вашего Сида не очень… Наемник, да еще и не очень верный. То маврам
служил, то испанцам. Ну, ты знаешь.
– Все это спорно, – хмуришься ты.
– Вот именно. А Мария Магдалина – не спорна. И золотая лестница тоже.
Мы заходим в собор. Проходим мимо фронтонов с шестиугольными звездами, вот
Моисей наклонил мудрую голову, вот Аарон – он задумчив и спокоен. Я бы спросила
у них про многое и про нас с Игнасио тоже. Может быть, в другой раз.
Вот знакомые витражи, многоцветный восьмиугольник над головой сияет. Стены
отбелены, на стенах портреты знаменитых епископов Бургаса – Пабло де Санта
Мария и его сына Алонсо. Пабло в юности звали Шломо, фамилия его была хаЛеви,
но чего не сделаешь ради карьеры, чего не сделаешь, чтобы сохранить жизнь жене и
шестерым детям, не так ли?
– Его жена, – показываю я рукой на портрет Шломо, – так и не приняла
христианство, ты знаешь об этом? – Игнасио кивает. – А от еврейского квартала
его стараниями не осталось в Бургосе и следа, – продолжаю я рассказывать то, о чем
Игнасио никогда мне не говорил, я сама узнала.
Ты снова киваешь. Берешь меня за руку. Больше не отпускаешь.
Однажды, через два года после нашей первой встречи, ты сказал:
– Хочешь, я приму иудаизм? И возьму имя Давид.
Я тогда от удивления перестала дышать.
– Зачем?
– Тогда нас похоронят рядом.
– Я не собираюсь умирать. И потом – мы живем в разных странах. Каким образом?
– А вдруг когда-нибудь мы окажемся в одной?
– Вот когда окажемся, тогда и примешь, – со злостью ответила я.
Нет, я не ждала предложения руки и сердца. Хотя, вру, вру, боже, как же я вру.
Конечно, ждала. Я так этого ждала, что в первые годы плакала по ночам. Но ты
оставался так нежен и так предупредителен во время наших редких встреч, что мне
казалось невозможным опомниться и сказать:
– Я больше не приеду.
Это было бы как отрезать себе руку.
За десять лет ты так и не принял иудаизм. И про похороны больше не заговаривал.
Пока не заболел и не умер – быстро, за девять дней. Я даже не знаю, кто тебя хоронил.
Нет, знаю, но не хочу про нее сейчас.
В последние годы ты не заговаривал ни про свадьбу, ни про похороны. Я молчала
и возвращалась к тебе вновь и вновь – на одну или две недели. И сейчас вернулась.
Пoвязка на глазах оказалась каменной, разве ее снимешь?
– Вот этот барельеф. Гляди.
Надо мной две фигуры, обе они прекрасны.
У одной взгляд умиротворен. Это жена.
У другой – повязка на глазах. Это любовница.
– Кстати, Игнасио, – поворачиваюсь я к тебе, – забыла тебя спросить. Как
поживает твоя жена?
Глава седьмая.
ВИНОДЕЛЬНЯ
– Следующие сутки ты будешь постоянно пьяная, учти, – сказал ты мне утром.
Вчера был долгий день, сначала собор, потом смотровая площадка на горе,
черепичные крыши, аисты, узкие, как рукава, улицы. Мы весь вечер ходили по улицам
не расцепляя рук, про жену я, конечно, ничего не спросила. Я в который раз пожалела
тебя, а не себя, и ничего не спросила про жену. А что тут спрашивать, если за десять
лет ты так и не развелся, и теперь она постарела, я поумнела, а ты умер. Но про то, что
ты умер, я стараюсь не думать, а беру свой рюкзак с ракушкой и продолжаю путь.
Мы уехали из города и добрались до постоялого двора, до того как стемнело, нас
уже ждали, нам улыбались и говорили: «Ола!» Мы уселись за темный стол, нам подали
великолепную свинину, нашпигованную перцем и черносливом, мы ели медленно,
еще медленней пили пиво, а потом поднялись на второй этаж и уснули. Комната была
маленькой, кровать скрипучей, вид из окна невозможным и тихим, как каждый день
без тебя. Мы скинули одежду, легли, обнялись, провалились в сон. А наутро ты сказал
вот это:
– Следующие сутки ты будешь постоянно пьяная, учти. Мы едем в Лаугардию.
Солнце сначала выглянуло из-за края земли, потом подожгло каштан у дороги,
покатилось по улице, перевалилось через подоконник и сейчас щекотало мне пятки.
– Согласна, – ответила я. – Пьяная – значит счастливая. А почему такой
подарок?
– Потому что сегодня утром мы ступаем на скользкий путь. Знаешь, где именно в
Испании начинается винная дорога?
– Где?
– В любой точке, где ты перестаешь быть одинок.
– Тогда пошли скорей.
И мы сбегаем из гостиницы – заплатив, но не позавтракав.
– Куда же вы? – кудахчет хозяйка. – А завтрак?
Ты машешь ей рукой, обещаешь накормить меня сразу после.
– Что значит сразу после? – подозрительно спрашиваю я, разглядывая
виноградники, проносящиеся мимо. Ты ведешь машину быстро и осторожно, будто
спешишь доставить по назначению ценный груз.
– Сразу после – это сразу после первого глотка. Я хочу, чтобы ты начала этот день
с глотка красного.
– Ты смеешься. А кофе? А хлеб с домашним вареньем? А сыры – потные, крепкие,
соленые?
У меня от голода начинает кружиться голова.
– Я не смеюсь. Так положено. Ничто не должно перебить вкус первого глотка. Это
как… – ты задумываешься, отвлекаешься от дороги, смотришь на меня. – Это как
первая брачная ночь. Помнишь нашу?
Я помню наш первый раз. Еще бы. Я помню наш первый, наш второй, наш…
– Не считай их по пальцам, – смеешься ты, – пальцев не хватит.
– Тогда я возьму твои, – отвечаю я, беру тебя за руку.
Наши руки трогают друг друга, как в первый раз, голова перестает кружиться,
вместо нее кружится все кругом, особенно небо и одинокое облако на нем. Скорей бы
приехать. Дорога поворачивает, вот и въезд в деревню, за которым чистые деревенские
улицы, круглая площадь, на ней памятник – настоящий паровоз и несколько вагонов,
груженных винными бочками.
– Отсюда мы пойдем пешком, – говоришь ты. – Это недалеко. Начнем с
винодельни Муга. Я немного знаком с хозяином, он нас уже ждет.
Иногда мне кажется, что ты знаком со всем миром, и я тебе об этом говорю.
– Сеньора еще не завтракала, – предупреждаешь ты расторопного официанта,
встречающего нас улыбкой у самых ворот.
Официант красив и строен, как сам Дионис, он проводит нас к дальнему столику
под виноградной лозой, растущей из деревянной кадки, исчезает, чтобы тут же
вернуться с подносом. На подносе стеклянный графинчик с широким горлом, бутылка
красного, бутылка воды, два бокала и два стакана со льдом. Никакой закуски. Ну ладно,
потерплю. Живот сначала сводит от голода, потом отпускает. Я начинаю разглядывать
дом и дворик, забываю про завтрак.
Дом пряничный, а двор чистый, будто скатерть, каждый булыжник вылизан, натерт
утренней росой. Кругом беззастенчиво красиво, аж слепит глаза. За столом в центре
двора сидят двое, старый мужчина и дородная женщина, женщина смотрит на меня
строго, мужчина благосклонно, он кивает Игнасио, даже чуть шевелит рукой.
– Это хозяева, – ты наклоняешься ко мне, шепчешь. – Им, наверное, уже лет
по сто. Каждый день они выходят, усаживаются, потягивают вино, наблюдают за
происходящим.
– Но что здесь может происходить? Туристы, как и везде. Приходят, пьют,
отправляются дальше.
– Здесь происходит вечность.
Я хмыкаю.
– Иногда ты говоришь – будто роман пишешь.
– Никакой это не роман, – обижаешься ты. – Сейчас поймешь. Только глотни, и
начнется.
– Что начнется? – я пожимаю плечами. – Голодная, глотну, опьянею, сначала
мне покажется, что жизнь удалась, потом начну плакать от несбывшегося.
Официант осторожно разливает вино – графин принимает, отдает бокалам. Я
забываю покрутить бокал, как ты однажды меня учил, делаю первый глоток, вино
кажется терпким, но сладким.
– Покрути, – шепчешь ты.
Я послушно кручу бокал, даже нюхаю, прежде чем выпить снова. Запах странный
– пожалуй, пахнет солнцем. Что совершенно точно – запах куда лучше, чем вкус
первого глотка. Я снова прикладываюсь к бокалу, полощу вином рот. Его будто
подменили, хотя этого и не может быть, но вкус уже совсем другой.
– Теперь тебе станет понятно, чем вторая брачная ночь отличается от первой, –
подмигиваешь ты, официант улыбается.
– Вы говорите по-русски? – спрашиваю я.
– Немного, – отвечает он. – Я из Румынии. Я цыган. Меня зовут Йонко.
– Теперь ты испанец, брат, – говорит ему Игнасио по-испански, и тот кивает,
довольный.
– Иногда мне кажется, – говорит цыган, – что все люди – испанцы.
Йонко умолкает, косится на хозяина. Тот сидит неподвижно, словно изваяние,
дышит с удовольствием, только глаза двигаются – то на нас, то на жену. Оба так
довольны происходящим, что мне не хочется их подводить, и я делаю третий глоток.
Испания исчезает, возникает родной Питер. Через год после первой встречи Игнасио
приехал ко мне. Лето выдалось холодным, мы бродили по улицам, прижимались друг к
другу, чтоб теплей, ветер полоскал деревья в реке, река прятала руки, рябые от цыпок,
под мостами.
– Я решил пожить у тебя, – сказал ты, а я сделала вид, что возмутилась.
– Но ты даже не спросил меня.
– Вот. Спрашиваю.
Ты был смирный и послушный вначале, а может, это холод на тебя так подействовал.
В конце концов у нас ничего не получилось, причин было множество, и дочь, и бывший
муж, и подружки, и твоя жена, так и не поверившая, что это «всего лишь по работе»,
ее бесконечные звонки, твои виноватые плечи. Если вспоминать причины , можно
опьянеть еще быстрее.
– Расскажи мне про них, – я киваю головой в сторону хозяев, они кивают в ответ.
– Боюсь, мой рассказ может показаться грустным, но я попробую. У Марио
и Марии восемь детей. Однажды, когда старшему было всего пятнадцать, Мария
заболела. Врачи разводили руками, пришлось лечь в больницу, она начала угасать, дети
плакали, Марио скрипел зубами. В конце осени, когда надежды не осталось, Марио
приехал за ней в больницу, увез насильно, просто украл. За те несколько месяцев, что
она болела, Марио продал квартиру в городе, уволился из булочной, купил старую
винодельню с единственным работником, прочитал все, что мог найти об искусстве
вина. В это самое место он и привез Марию. Понятное дело, ей пришлось выздороветь.
А может, он ее вином отпоил. Теперь не узнаешь. Только с тех пор ни тот, ни другой
не болеют. А дети выросли, разъехались, кто-то умер, кто-то женился, много чего
произошло. Но каждый день – они здесь. Оба-два. Будто и правда есть в этой жизни
смысл. Что скажешь?
Я молчу. Я слушаю твой рассказ, мне кажется, что он не про Марио и Марию, а про
нас с тобой, про старые фотографии, чуть желтоватые по краям, на которых наши так
и не родившиеся дети, мне грустно, но совсем немного.
Мы встаем, я покачиваюсь, ты расплачиваешься, благодаришь, подхватываешь
меня, мы выходим – ты прямо, я кое-как. Потом начинаются другие винодельни,
другие дворики, и в каждой мы, кроме всего, завтракаем, и я уже полная, как эта бочка,
и такая же пьяная, иначе откуда эта уверенность, что наша с тобой жизнь удалась? Еще
немного, и я заплачу от счастья; чтобы не заплакать, я висну на тебе и ищу твои губы.
– Где мы сегодня ночуем? – спрашиваю я. Ты бережно поддерживаешь меня, от
твоих губ пахнет вином.
– Сегодня мы идем в гости к первобытным людям.
– Расскажи мне про них.
– Отчего же нет? Они, как ни крути, наши с тобой предки.
Мы садимся в машину и едем. Ты рассказываешь про далекое время палеолита, про
мамонтов и ледники. Про «границу Эбро»: Эрбо – это река, она разделила землю на
два мира. На ее северном, плодородном берегу, где меж сиреневых гор зрели пышные
луга, жили и с удовольствием размножались кроманьонцы, а на южном, где степи и
засуха, – вымирали последние неандертальцы.
– Скелеты покрывали охрой; когда их откапывают, они все еще красивы.
Неандертальцы жили в пещерах, а кроманьонцы строили жилища. Семейные
отношения были прочными, детей рождалось мало, больше троих на спине не унесешь.
– А мы? Мы уже были? – спрашиваю я.
– Обязательно. Игнасио и Лючия. Красиво звучит, правда?
– Красиво. Но почему Игнасио? Почему не Давид, например?
– Потому что не в имени дело.
– А в чем? В чем дело, Игнасио?
Ты отвечаешь спокойно и убедительно, я киваю, но не слышу, что именно ты
говоришь, потому что ты больше никогда и ничего не скажешь. В конце концов
я засыпаю, а когда снова открываю глаза, нет ни деревни, ни виноделен, ни каких-
нибудь домов. Даже коровы и овцы исчезли, остались одни виноградники.
Мы заезжаем на стоянку, гостиница напоминает по виду огромную винную бочку.
Полы в ней из толстого стекла, под стеклом огромный погреб. Кажется, эта гостиница-
бочка вот-вот покатится, потому что стоит она на пологом склоне, за которым, куда ни
кинь взгляд, только виноградники и начинающее полыхать небо. Между виноградными
рядами разбросаны невысокие холмы с полуразрушенными каменными стенами.
Стены эти тоже невысоки, ниже человеческого роста.
– Что это? – спрашиваю я.
– Это и есть первые жилища наших с тобой предков, – отвечаешь ты. – Здесь
они жили. Завтра утром я тебя поведу с ними знакомиться.
– А сейчас?
– А сейчас мы спустимся в настоящий погреб. Вернемся оттуда с хорошей
бутылкой. Займем комнату с балконом, чтобы успеть проводить закат. И будем пить и
любить друг друга, разве не для этого мы здесь?
Глава восьмая.
СУГАРРАМУРДИ
Утренняя прогулка по виноградникам затянулась, виноград оказался очень
сладким, мы сидели на каменной ограде, кормили друг друга тугими ягодами, ждали
восход.
– Куда мы отправимся сегодня? – спросила я.
– В одну наваррскую деревушку. Она называется Сугаррамурди. В ней всего 200
жителей. Все женщины деревни – ведьмы. Они не очень любят приезжих, редко
открывают ставни, но у меня есть один адрес, нас с тобой обещали принять.
– Что значит – ведьмы? Разве вы не уничтожили всех ведьм пятьсот лет назад?
– Ведьма – это женщина, которая обладает тайными знаниями.
– Все женщины обладают тайными знаниями.
– Это верно.
Дорога петляет, холмы сменяют друг друга, мы держимся за руки, ты ведешь одной
левой.
– Расскажи мне про тайные знания.
– Чаще всего ведьмами считали тех женщин, которые умели врачевать. Особенно
доставалось повитухам.
– То есть помогать людям было опасно?
– Это и сейчас опасно.
– Верно. Но это значит, что я в опасности. Ведь я только и умею, что врачевать.
– Пока ты со мной, никакая опасность тебе не грозит.
– Пока?
Игнасио отвлекается от дороги, смотрит на меня.
– И пока, и всегда. Что тут непонятного?
Я довольно хмыкаю.
Дорога становится все уже, деревья сжимают ее, за последним поворотом
появляется деревня. Белые дома с цветочными горшками на стенах выглядят
игрушечными. Улицы крутые, узкие, булыжник неровный, блестит, недавно здесь был
дождь. На улицах ни души.
– Надо же как здесь все… Не красиво, нет. Другое слово. Даже не подобрать.
– Погоди, самое интересное впереди. Если ты не очень голодна, то давай начнем
с Пещеры.
Игнасио глядит на меня с сомнением. Мне немного не по себе, но я стараюсь этого
не показать, бодро отвечаю.
– Совсем не голодна. А что за Пещера?
– Пещера Ведьм. Это место было что-то вроде клуба по интересам. Здесь
собирались деревенские женщины, чьи мужья ушли в море, охотиться на китов.
Болтали, шили, мотали пряжу. Сплетничали. Хвастались.
– Ну и?
– Была среди них одна, по имени Элоиз. Говорят, она была немного не в себе. А на
самом деле – уж больно завидущая. У нее не было мужа, не было детей. Не сложилось.
Она приходила в Пещеру послушать про чужое счастье, про детские шалости, про
плотские утехи.
– Ей тоже хотелось плотских утех?
– Наверняка. Так хотелось, что однажды она пришла к деревенскому старосте и
пожаловалась, что в Пещере женщины собираются, чтобы вытворять нехорошие вещи.
Уж не знаю, что именно она наговорила, но фантазией ее бог не обделил. Вернее, черт.
– А на самом деле?
– На самом деле никто точно не знает. Конечно, никакого совокупления с
животными или убийства младенцев там не было. Болтовня. Но Элоиз быстро поняла,
что чем страшней и нелепей вымысел, тем охотнее ему верят.
Вход в Пещеру широкий, но внутри темно. Мы заходим, камни смотрят на нас, а
мы на них. Если бы мы могли услышать голоса тех женщин.
– Ты думаешь, эти камни могут что-то рассказать?
– Наверняка.
С потолка пещеры падают капли, мерно стучат, как будто стучит сердце.
– Это место не выглядит туристическим, – ежусь я.
– Тогда давай вернемся.
– Нет, сначала расскажи, что было дальше.
– А что дальше? Дальше – как всегда. Донос – дело гадкое, но прибыльное.
Пришли люди инквизиции, арестовали всех женщин деревни, процесс длился два
года, одиннадцать из них приговорили к сожжению, но казнили всего шестерых, пять
женщин умерло до суда в тюрьме.
– Отчего?
– От ужаса.
Мне становится холодно. Так холодно, что я начинаю дрожать.
– А мужья?
– А мужья вернулись с плавания и стали жить дальше.
– А Элоиз?
– Говорят, что она умерла молодой.
– И никто не пытался их защитить?
– Отчего же. Помнишь, я рассказывал тебе про адвоката ведьм? Его звали Алонсо
де Саласар, и он был баск. Благодаря ему многих женщин оправдали, – Игнасио
обнимает меня за плечи. – Зря я тебя сюда привел. Пошли к Фриде.
Я прижимаюсь к нему крепко-крепко.
– Кто эта Фрида?
– Белая ведьма. Увидишь. Пошли.
Мы возвращаемся в деревню, но я еще долго слышу, как стучат капли, разбиваясь
о камни. Улица упирается в небольшой белый дом. В палисаднике толпятся бодрые
розы, они такие красные, что кажутся горячими. Над коричневой дверью – сухой
желтый цветок, напоминающий наш подсолнух.
– Это – эгускилоре, «солнечный цветок», – говоришь ты. – Он волшебный, если
его сорвать, не завянет десять лет, но даже если завянет, будет охранять тебя от беды.
– Вот бы мне такой.
– Тебе-то зачем? Я тебя охраняю не хуже любого цветка.
– Но ведь тебя больше нет. Игнасио, ты…
– Тс. Молчи. Не произноси это слово.
– Хорошо, не буду.
Он стучит, дверь открывается тут же, видно, старуха нас ждала.
Дом у Фриды чист и ухожен, на дощатом полу топорщатся жесткие полосатые
половики, на стенах фотографии детей, в центре комнаты круглый стол, вокруг четыре
стула, на продавленных сиденьях вышитые подушки, на одной из них спит черный
котенок.
– Здравствуй, Фрида, – говорит Игнасио.
– Здравствуй, – отвечает старуха. – Кто это с тобой?
– Это моя жена, познакомься.
Ты любишь представлять меня незнакомым людям. Тебе нравится называть меня
женой.
Фрида оглядывает меня из-под густых бровей, брови у нее почти мужские, а еще –
седые усики над верхней губой.
– Я – Фрида, – протягивает она мне руку. – А ты?
– Я – Лючия, – называю себя не своим именем.
– Ты врешь, – обращается старуха к Игнасио. – Она не твоя жена.
– Как ты узнала?
– Она недостаточно счастлива.
Ты хмуришься. Смотришь на меня. Надеешься, что я не поняла.
– Что она сказала? – спрашиваю я, сжалившись над тобой.
– Она сказала, что ты слишком красива, чтобы быть моей женой.
Я улыбаюсь. Ну и врун же ты. Милый, неумелый врун. Мне хочется прижаться к
тебе. Сейчас же.
Старуха ведет нас в комнату.
– Жду вас к ужину через час, – она с сомнением глядит на меня. – Хорошо, через
полтора. Милуйтесь. Но учтите, мой мармитако уже на подходе.
– Что значит белая ведьма? – спрашиваю я позже.
Ты лежишь на спине, гладишь мой живот.
– Ведьма, творящая добрые дела. Самым добрым делом считается сводничество.
Поэтому у каждой белой ведьмы должен быть в доме черный кот.
– Почему черный?
– Считается, что черные коты обладают необыкновенной интуицией и могут
предсказать, какой брак будет счастливым, а какой нет.
– Как же он это предсказывает?
– Его запускают в дом к новобрачным. Если он вскакивает на их брачное ложе –
брак будет долгим и верным.
– Это хорошо, – я улыбаюсь, довольная, что наконец-то услышала хоть что-то
доброе про эту деревню. – А что такое мармитако?
Ты поворачиваешься ко мне, утыкаешься лицом в мои волосы, бормочешь.
– Похлебка из тунца. Она должна томиться в печке три часа перед тем, как попасть
на стол.
– Здорово. Значит, у нас еще есть время.
Ты начинаешь меня целовать.
– У нас еще есть время, это точно. Тем более что я не собираюсь охотится на китов.
А значит, у тебя не будет возможности рассказать подругам про наши плотские утехи.
Откуда ни возьмись в комнате появляется тот самый черный котенок. А ведь мы
закрывали дверь. Он вскакивает на кровать, возится, укладывается, начинает сопеть,
как взрослый. Я закрываю глаза.
– Белая ведьма, – бормочу я. – Белая ведьма, черный кот. И пусть наш брак будет
долгим и верным.
Глава девятая.
АЛЬТАМИРА
Часы мелькают, как тапас, города и деревни меняют друг друга, как закуски.
Деревня Ведьм остается позади, впереди – соленый ветер и облака.
Кто-то разлил синьку, бросил в нее желток, получилось Бискайское море.
Я плохо запомнила этот день. Ночевали мы в городе Кастро Урдиалис, на маяке
– это помню. Море было неспокойным, выплескивалось на набережную, трепало
парусники и чаек.
– Жалко, что маяк больше не действует, – говорю я, оглядываясь по сторонам. –
Жалко, что это только гостиница.
– Он действует, – Игнасио подходит к самому краю смотровой площадки. – Но
не все про это знают.
– Светит? – я иду за тобой, стараясь не глядеть вниз.
Внизу море разбивается, как мечты, оставляя на лице соленые брызги.
– Греет, – смеешься ты.
– Это хорошо, – я довольна. – Будем с тобой греться.
Потом был ужин, много больших толстых тапас, здесь их называют пинчос,
чесночная похлебка и молодое белое вино по прозвищу Чаколи. Луна светила не хуже
маяка в круглое окно, ветер стучал и не давал спать.
– На море всегда тревожно, правда? – спросила я.
– Это не тревога. Это ожидание лучшей доли. У моряков всегда так, – ответил ты,
и я запомнила и принялась ждать нашу лучшую долю.
– Откуда ты знаешь?
– В прошлой жизни я был моряк.
– Откуда ты знаешь? – не отставала я.
– Фрида рассказала. Она умеет видеть.
– А я? Кем была я?
– Ты была со мной. И будешь. Это и без Фриды понятно.
Наутро мы отправились в Сантельана дель Мар, ты хотел показать мне мою
церковь – Церковь святой Юлианы, а в музей пыток мы не пошли, вот еще. Церковь
оказалась небольшой и уютной, ты сказал, что она похожа на меня, и я с удовольствием
согласилась.
Мы бродили по деревенским улицам, как будто мы здесь живем – давно и вместе,
потом пили крепкий кофе, расположившись на плетеных стульях, расставленных по
краю улицы, считали аистов на деревенских крышах.
Во рту было горько – кофе нельзя пить в одиночестве. Наконец мне пришлось
сказать вот это:
– Наше путешествие подходит к концу, – сказала я. – Осталась Альтамира, а
потом
Сантьяго-де-Компостела, город, в котором мы с тобой еще не бывали, – ты сделал
вид, что не услышал. Я сделала вид, что ты все еще жив. – Расскажи мне про Альтамиру,
– попросила я. Ты оживился.
– Альтамира – юность человечества. В этой пещере жили наши предки,
наскальным росписям больше 18 тысяч лет.
Ты сел на своего любимого конька, говорил про первобытные племена, про сильных
женщин, про охотников, колдунов и художников, про отпечатки детских ладошек
на потолке пещеры, а я слушала и сожалела о том, что 18 тысяч лет прошли даром, а
может, этого времени слишком мало, чтобы хоть чему-то нас научить.
– Отчего люди не понимают, что мы все из одного яйца?
– Ты о чем?
– Если все мы произошли от этих самых кроманьонцев, то почему мы не любим
друг друга? Отчего случаются войны? Почему испанцы выгнали евреев? И как мог
случиться Холокост?
Небо вокруг стало серым, аисты загрустили.
– Ты задаешь слишком философские вопросы. А жизнь куда проще.
– Вот как. И в чем же ее простота?
– В том, что темнота – лишь отсутствие света, а зло – недостаточность добра,
поэтому свети и не опускай руки.
– Хорошо. Не буду. А что самое главное?
– Самое главное – что на свете есть ты и я, есть наша дорога, и мы по ней идем.
– Дорога Святого Якова?
– Скорее, святых Игнасио и Лючии.
– Тогда я не хочу в пещеру.
– А что ты хочешь?
– Я хочу остановить время.
– Но это невозможно.
– А если повернуть его вспять?
– Подходит, – усмехаешься ты, машешь официанту, заказываешь вина.
– Ты решил меня напоить, – ворчу я.
– Нет, – отвечаешь ты. – Только утолить жажду.
– Но любовь – колодец без дна.
– Вот и проверим.
Других твоих слов я уже не помню. Пожалуй, эти были последними.
Эпилог
На моем рюкзаке прилеплена ракушка, чтобы все знали, куда я иду. Я – паломник,
мой путь лежит по нашим с тобой городам, пока я прошла семь, впереди меня ждет
восьмой – Сантьяго-де-Компостела.
Еще один день по пути Святого Якова. Когда я приду на место, люди со светлыми
лицами и тихими голосами спросят меня, с какой целью я совершила этот путь – с
религиозной или не очень? Я отвечу, что с очень религиозной. Ведь моя религия – это
наши с тобой города, наши с тобой встречи, вкусные, сытные, словно тапас. Только в
Сантьяго-де-Компостела мы так и не успели побывать, так пошли скорей, потому что
пока мы идем, нас все еще двое, понимаешь?
Говорят, что этот самый святой Яков был тот еще волшебник. Мне кажется, если я
дойду до восьмого города, святой Яков сможет тебя оживить. Или, на крайний случай,
он поможет мне жить без тебя дальше. Но я не хочу жить без тебя, а с тобой, по разным
причинам, так и не получилось. Сначала ты боялся потерять свою жену, потом – свою
баскскую свободу, а в конце концов ты очень не вовремя умер.
В этом последнем городе – я слышу издалека – шумит Атлантика, океан лижет
пятки набережной, чайки носятся, как сумасшедшие, и выкрикивают наши имена.
– Игнасио, – доносит до меня ветер, и я подхватываю рюкзак поудобнее, чтобы
лямки не резали плечи, верчу головой, оглядываюсь.
– Лючия, – отвечает ветру куст шиповника.
Вот уже десять лет подряд ты зовешь меня Лючия.
– Меня зовут Юлия, – сказала я однажды.
– Нет, – Игнасио покачал головой, – ты Лючия. Может быть, даже Санта.
Шиповник замолчал, притаился, он знает, что все бесполезно, что птицы осенью
улетят, но сначала склюют сморщенные от холода ягоды.
– Ты моя Санта Лючия, – слышу я издалека, и снова верчу головой.
Вернее, голова кружится сама, наверное, это от голода. Пожалуй, пора перекусить.
Хлеб, мясо, немного овощей. Ты любишь мои округлости, поэтому я никогда не худая.
Хлеб, мясо, овощи, вино.
Вина будет много, чтобы я наконец смогла заплакать. С тех пор как я узнала, что
ты умер, я ни разу не заплакала. А это уже целый месяц. Так глупо – ведь раньше у
меня было слез больше, чем воды в Атлантике. Вместо того чтобы проливать слезы, я
составила маршрут, прилепила ракушку на рюкзак, сказала дочери, что еду в Испанию,
чтобы пройти по пути Святого Якова, и села на самолет.
Я начала с города Сервантеса, там мне показалось, что мы с тобой снова вместе.
Я слышала твой голос, я целовала твои губы, я не смотрела на часы, зачем? Если твое
дыхание замедлялось – это ночь, и мы спим, а если ты начинал дышать часто – это
утро, и мы занимаемся любовью. Главное – чтобы твое дыхание не останавливалось,
для этого я и приехала.
Потом был Бургос, Лагуардия и остальные места – святые, потому что наши.
Впереди меня ждет восьмой город. А еще надежда на то, что в прошлой жизни тебя
звали Давид, а не Игнасио, и нас в конце концов похоронят вместе.
Осталось совсем немного, я уже на пути к последнему городу, только вот голова
кружится, надо бы перекусить. Я захожу в придорожную таверну, усаживаюсь
за самый дальний стол, лицом к залу, спиной к стене. Раньше на паломников часто
нападали, чтобы ограбить или даже убить, и я всегда настороже.
Хозяин несет дымящийся суп, я макаю горбушку в оливковое масло, густо солю,
отправляю в рот. Вино – потом, сначала я утолю первый голод. Первый голод за семь
дней путешествия.
Собственно, а зачем мне этот восьмой день? Разве что для того, чтобы понять, что
наше путешествие закончено, но разве этого я хочу? Да и ты был бы против, правда?
– У вас сдаются комнаты? – спрашиваю я хозяина и вытираю слезы.
– Си, сеньора, – бодро рапортует он. – Все что вам угодно, включая комнату на
двоих.
– Хорошо, я, пожалуй, останусь, – говорю я на робком испанском.
Хозяин кивает. Он бы и рад поговорить, да всех не утешишь. Но меня утешают
вино и тапас, а еще восемь городов, и твои слова о том, что бесконечность – это цифра
восемь, уложенная на спину.
Я собираю остатками хлеба острый соус, вытираю губы. Расплачиваюсь,
подхватываю рюкзак, иду за хозяином по скрипучим ступеням. Он показывает мне
комнату и исчезает. Я отворяю темные ставни, в комнату врывается соленый ветер,
это дышит Атлантика. Но с этой минуты я слышу только твое дыхание.
– Знаешь, – говорю я тебе, – я не пойду дальше. Я останусь здесь. Куда торопиться?
Я же помню, как ты однажды сказал, что бесконечность – это восьмерка, уложенная
на спину. Наш восьмой город – он подождет, ладно? – часы на стене начинают идти
все быстрее, но может, это учащается твое дыхание, даже скорее всего. – Так уложи
меня на спину, – шепчу я, – и мы больше никуда не пойдем. Останемся здесь, и точка.
Стрелки на часах сначала кивают, потом спотыкаются, останавливаются. Но я уже
не пугаюсь, а тихо, сквозь сон, бормочу:
– И пожалуйста, заведи часы в обратную сторону. Я завтра прилетаю, ты же
помнишь.
Автор Lada Miller
Источник https://magazines.gorky.media/library/nevskij-prospekt